Линдхолм, наследник семьи, сорящий деньгами направо и налево, не успевший дожить ещё до своего тридцатилетия, ничего толком не достигнув и не совершив, умирал на окраине жилого района, и смерть его была мучительной.
Брызгая слюной, перемешанной с кровью, на землю, мучаясь от ужасающей боли, он не думал о том, чтобы попытаться вызвать Слугу, потому что каждая секунда промедления уменьшала его шансы даже на тот вариант выживания, который ему не нравился. Брезгливость от того, что ему сейчас придётся сделать, перебивала даже желание жить, но, к счастью для Линдхолма, даже самый большой сноб среди магов всегда прежде всего хочет жить. Он ощущал обиду и ярость – аттракцион, который он желал увидеть, вместо щекочущей нервы лёгкой опасности, в итоге принёс ему смерть. Он давился кровью, не зная, сколько ещё протянет, но всё же шептал заклинание, в котором сейчас ошибиться ему было нельзя. Он был в ярости ещё и потому, что не взял с собой никого из четверых «братьев», похожих друг на друга как две капли воды, потому что их тела больше бы подошли.
Он знал – дура недалеко, она наверняка сидит на стуле, как посаженная кем-то и забытая кукла, и лишь иногда моргает, чтобы радужка не пересыхала. Он даже представить себе не мог, чтобы Иви… Эви… как он там её представил один раз? Неважно – он был абсолютно уверен, что она недвижимо сидит, не смея касаться его вещей, и смотрит в стенку пуговичным взглядом без выражения.
Линдхолм всегда относился к своим гомункулам как к вещи – красивому, надо сказать, предмету интерьера, который брал на себя все хлопоты вокруг него. Вещь иногда могла стать футляром для его сознания, но это было такой далёкой перспективой – он и сам был далеко от старости. Поэтому перспектива переноса разума в гомункула казалась ему такой далёкой, а заклинание – таким бесполезным. Судьба посмеялась над ним, заставляя его произносить это заклинание сквозь кровавую слюну и судороги боли в надежде не ошибиться ни разу.
Кажется, он всё-таки не ошибся – или не сделал критичной ошибки. Первыми «туда» ушли командные заклинания – теперь Линдхолму они были нужнее, чем когда-либо. Через секунду за ними последовал и разум – и искалеченное тело мастера покинула последняя капля жизни.
Совсем рядом, за стеной дома, Иви выронила из рук чашку, узор на которой она заинтересованно разглядывала, потому что запястье обожгло резкой болью. Потом вдруг рухнула на пол, как подкошенная, ударившись об угол стола, потому что в голове что-то разорвалось с треском шаровой молнии.
К своему двухмесячному возрасту Иви – так её назвали однажды – научилась безукоризненно следовать приказам и чётко различать приказы и их отсутствие. Прикажи ей Линдхолм сидеть на стуле до его возвращения, и она бы даже не пошевелилась, хотя ноги у неё порой затекали как и у людей, пусть и редко. Но, когда он забывал это сделать, Иви могла встать и пройтись. Поглядеть на чашку, например – она была из лёгкого фарфора и походила больше на цветок. Или подойти к окну, не открывая его, и немного поглазеть. Она прекрасно пользовалась той толикой свободы, которую ей оставляли, и всегда ставила чашки на место.
Сейчас же чашка была безнадёжно разбита, а Иви валялась на полу. Когда она смогла разлепить глаза, они оказались мокрыми, а во рту стоял стальной привкус, который не имел на то никаких оснований. Она попыталась подняться, но вспышка ярости – в понимании Иви это было что-то похожее на желание раздирать пол ногтями – заставила её снова рухнуть.
Когда она всё-таки смогла, пошатываясь, подняться, её обуревало желание срочно выйти из дома и пройти пару метров вперёд. Запястье жгло огнём, из глаз катились слёзы, хотелось сплюнуть и не раз, чтоб избавиться от чужеродного вкуса. Иви ощущала целую кучу эмоций – собственный страх, потому что всё это было неправильно, брезгливость к самой себе, как будто она ненавидела своё существование и свой вид (это было ей чуждо), непонимание, отчаяние и какое-то особенное желание жить. Путь в несколько метров растянулся, по ощущениям, на годы, гомункул то и дело хваталась за голову и тихо хрипела, умоляя саму себя остановиться и вернуться в прежнее спокойствие. Когда она, наконец, смогла посмотреть вниз, себе под ноги, страх вспыхнул снова.
Хозяин лежал мёртвым в луже крови, и Иви абсолютно точно знала, что ему не помочь.
…Он всё-таки где-то ошибся. Немного или фатально. Может, он просто не рассчитал нужные усилия, считая Пятую лишь дурой с пустой головой. Может, он изначально не мог приложить достаточную силу. Так или иначе, Линдхолм не открыл глаза в теле Иви в тот же час. То, чем он стал, едва ли являлось человеком. Он научил гомункула целой гамме чувств, разом весьма очеловечив его, а после – сам стал лишь комком эмоций, не сумев захватить власть в её разуме.
«Дура», мелькало в голове Иви, «Дура, дура, дура, дурадурадурадура»
Это пугало её и одновременно убеждало в виновности в смерти собственного хозяина. Иных причин для такого она не видела.
Пахло от тела хозяина точно так же, каким был вкус в её рту. Иви опустилась на колени, пачкая чёрные брюки в пыли и начинающей подсыхать крови, и застыла, не зная, что говорить и думать. То, что говорило в её голове, обессилев, замолчало, и ощущение чужеродности разом исчезло. Вернулся страх. Иви, как детёныш, нашедший мёртвую мать, зачем-то попыталась потрясти хозяина за плечо, подтолкнуть его, надеясь на то, что ей кажется. Она, как вещь без хозяина, совершенно не знала, что ей испытывать по этому поводу, но подобие тоски в её душе всё-таки было. Мёртвый сэр Линдхолм по определению не мог её радовать.
Она и то, что было в её голове, совершенно забыли о том, что убийца может быть рядом. Иви этого не знала, а остатки разума хозяина просто выбились из сил, если можно так сказать о том, что не имеет телесной оболочки. О Слуге они тоже забыли.
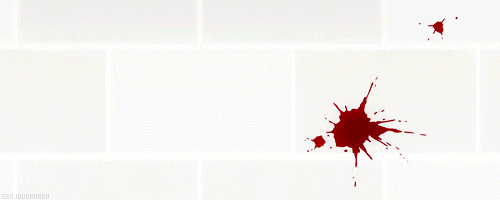




 ИВИ ЛИНДХОЛМ
ИВИ ЛИНДХОЛМ



